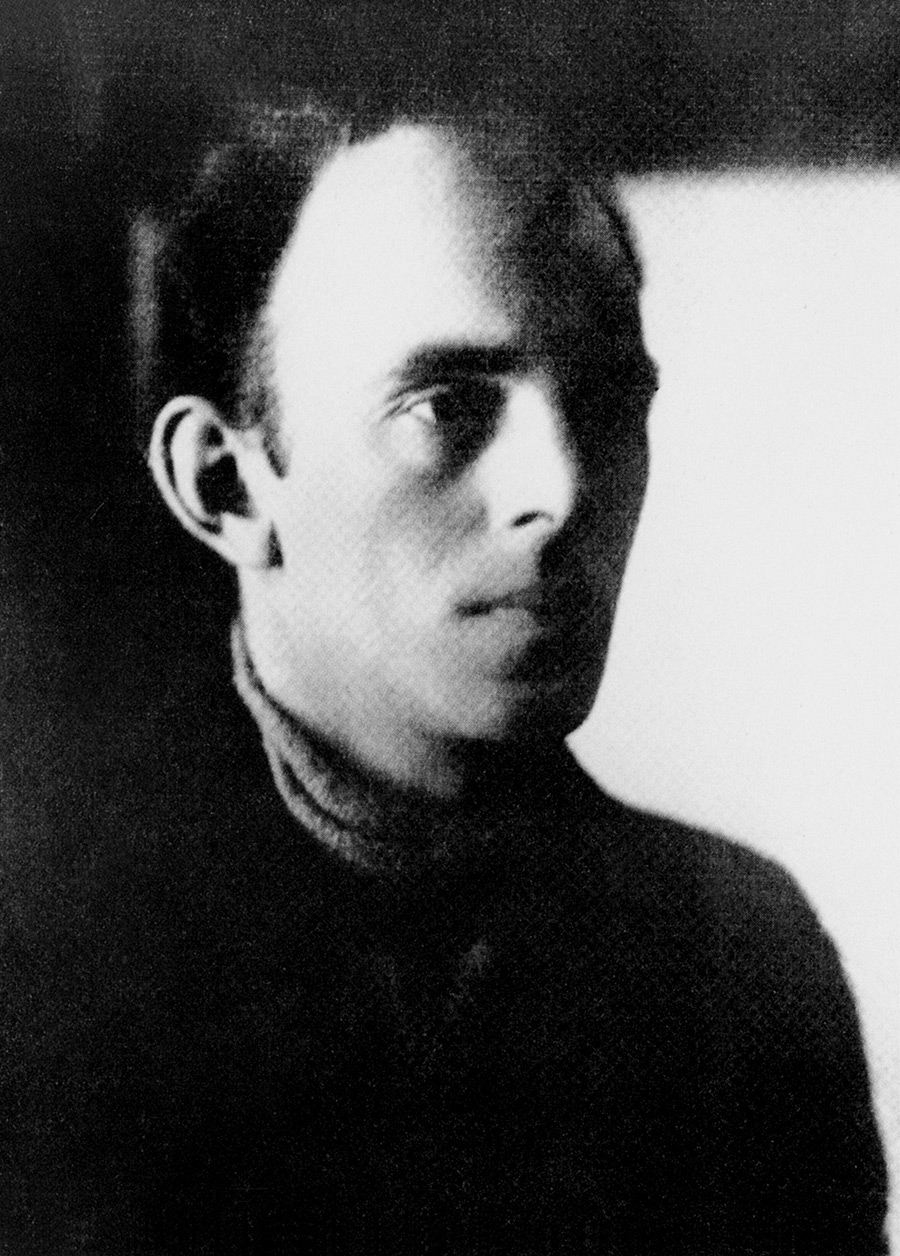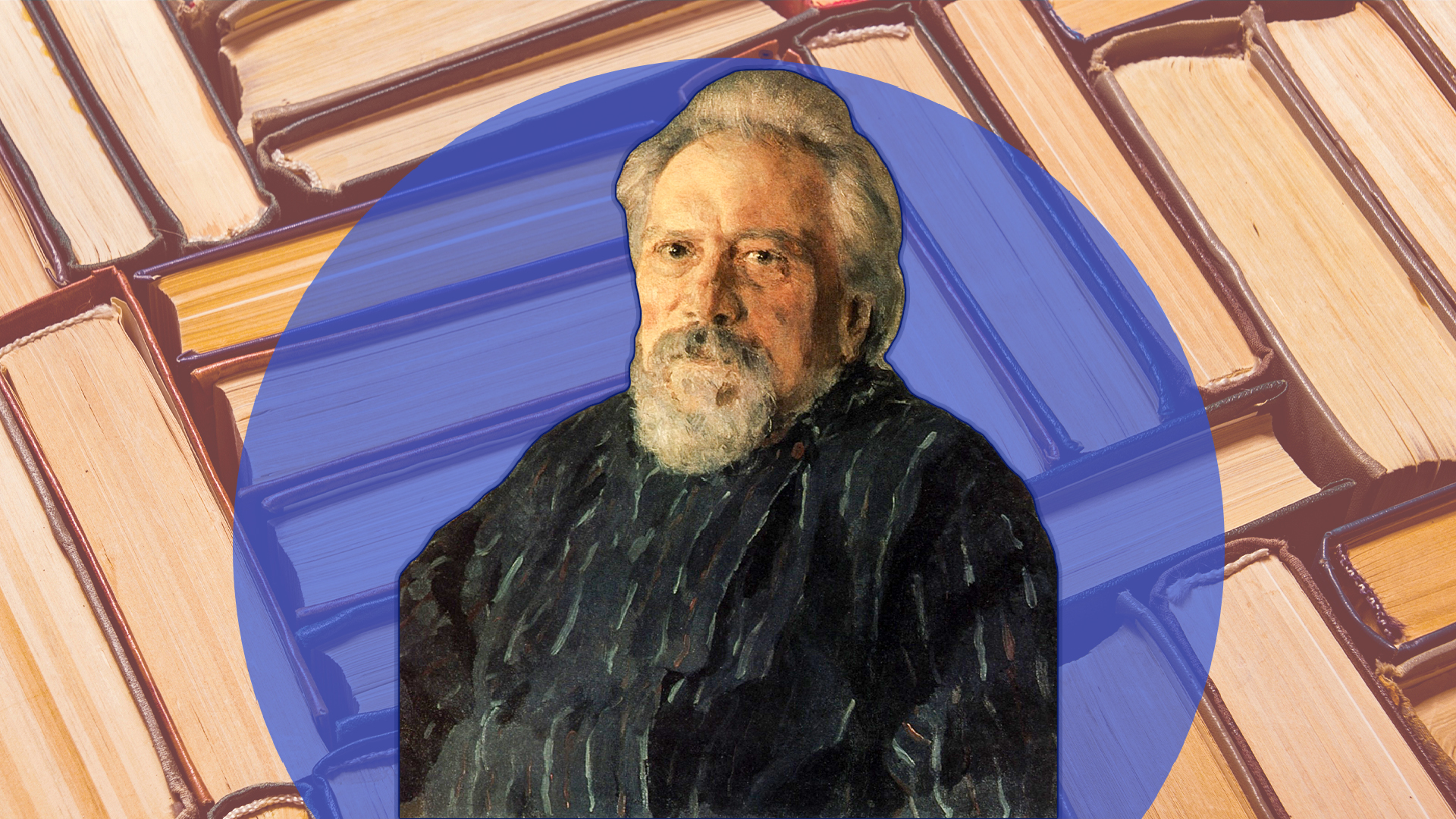5 произведений русских писателей о зарубежных гениях

Британский интеллектуал, лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс в юности учил русский язык. А в 1965-м в компании друзей-студентов совершил длительное путешествие по СССР на микроавтобусе, побывав в Минске, Смоленске, Москве, Ленинграде, Киеве и Одессе. С тех пор его интерес к русской культуре не угас. В 2016-м он выпустил роман о русском композиторе Дмитрии Шостаковиче «Шум времени» (The Noise of Time). Интерес Барнса к Шостаковичу, одного творческого человека к судьбе другого – не уникален. «Окно в Россию» вспомнило работы русских классиков, посвященных великим европейцам.
Александр Пушкин «Моцарт и Сальери»
Короткая пьеса о природе гениальности 1830 года. Согласно Пушкину, Моцарт – легкомысленный гений, Сальери – трудолюбивая посредственность. Сальери завидует одаренности Моцарта. Ему обидно, что тот пишет великую музыку без всяких усилий в то время как он вынужден упорно работать над каждой мелодией. И в результате Сальери решает отравить Моцарта. Известно, что в реальности этого не было, однако Пушкину этот сюжетный ход был нужен для «литературного правдоподобия».

Иван Тургенев «Гамлет и Дон Кихот».
10 января 1860 года на публичном чтении в пользу нуждающихся литераторов и ученых Тургенев произнес речь «Гамлет и Дон Кихот». В ней он подробно проанализировал два, с его точки зрения, противоположных типа личности. Отличительные черты образа Гамлета, согласно Тургеневу: «Анализ прежде всего и эгоизм, а потому и безверье. Он весь живет для себя самого, он эгоист». Тип же Дон Кихота в понимании русского писателя таков: «Он весь живет (если так можно выразиться) вне себя, для других, для своих братьев, для истребления зла, для противодействия враждебным человечеству силам — волшебникам, великанам, т. е. притеснителям. В нем нет и следа эгоизма, он не заботится о себе, он весь самопожертвование — оцените это слово! — он верит, верит крепко и без оглядки». Размышления о персонажах становятся также поводом для исследования природы таланта Шекспира и Сервантеса.
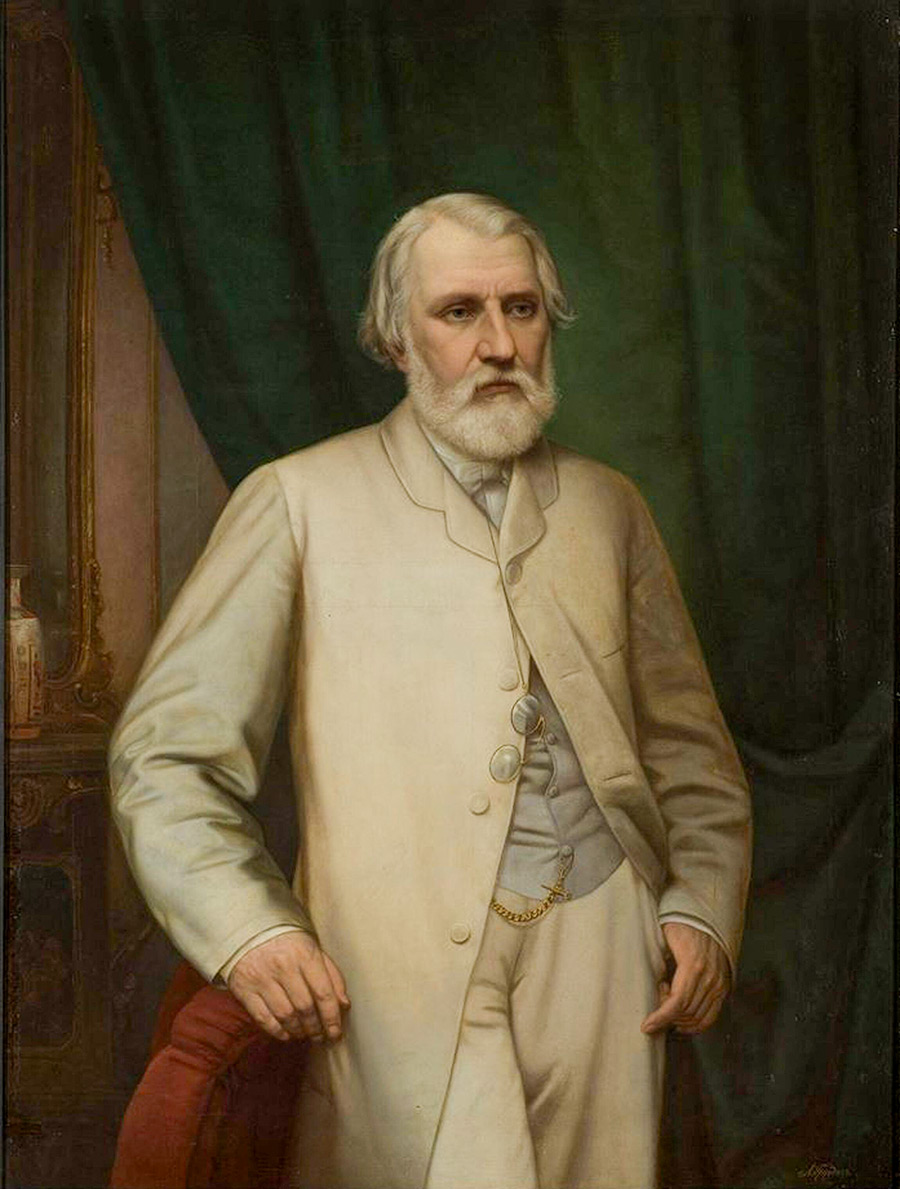
Дмитрий Мережковский «Воскресшие боги»
Еще одно размышление на тему гениальности, но уже на примере Леонардо да Винчи. Если Пушкин считал, что гений может быть молод и ленив (достаточно одной одаренности), то Мережковский выводит искусство за пределы этики и морали. Гений для него – бессмертный в результате своего признания сверхчеловек, в котором соединились бог и антихрист. Он противоречив, и в нем соединяются все идеи его времени.

Михаил Булгаков «Жизнь господина де Мольера»
Беллетризованную биографию драматурга Булгаков написал в 1933 году для просветительской серии «Жизнь замечательных людей» (придумана и начата еще до революции, а с начала 1930-х продолжена под руководством Максима Горького). Однако основной конфликт произведения — выбор между творческим призванием гения и общественными ожиданиями, социальным заказом — показался редакторам неуместным в контексте идеологии молодого советского государства и рукопись не опубликовали. Книга вышла в 1962 году после смерти автора.

Осип Мандельштам «Разговор о Данте»
В 1933 году поэт выучил итальянский язык и зачитывался Данте. Он читал и перечитывал «Божественную комедию». Это произведение стало для него своего рода оптическим прибором, через который Мандельштам вглядывался в современность. «Немыслимо читать песни Данте, не оборачивая их к современности. Они для этого созданы. Они снаряды для уловления будущего. Они требуют комментария в Futurum», — писал он. Сразу после завершения «Разговора о Данте» он написал знаменитую эпиграмму на Сталина. Литература и политика стали для него единым целым.